- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Построение и анализ версий
Другим направлением тесной связи криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности служит проблематика версий. Здесь наблюдается определенная “экспансия” криминалистики, поскольку речь об оперативно-розыскных версиях ведется при изложении содержания криминалистического учения о версии и планировании расследования.
Как уже отмечалось выше, в учебниках и курсах криминалистики при классификации криминалистических версий по субъекту выдвижения называют следственные, судебные, экспертные и оперативно-розыскные версии и как подвид – розыскные версии.
Никто из криминалистов, занимавшихся проблематикой версий, не приводил никаких аргументов, подтверждающих правомерность включения оперативно-розыскных версий в число версий криминалистических, это как бы само собой разумелось и, насколько нам известно, возражений со стороны специалистов в области теории ОРД не вызывало. Единственным объяснением этого, очевидно, может быть то, что в теории ОРД данная проблема серьезному исследованию не подвергалась.
Между тем, единственным основанием для включения оперативно-розыскных версий в число криминалистических может служить единство их гносеологической природы и логический процесс их построения и проверки. По другим же признакам эти версии отличаются от следственных и судебных, помимо, естественно, отличий по субъекту выдвижения и проверки.
Но единство гносеологической, логической природы свидетельствует лишь о том, что оперативно-розыскная версия, как и криминалистическая, представляет собой разновидность частной гипотезы, имеющей значение только для данного случая. Этот признак роднит ее с версией криминалистической, позволяет объединить их в классе частных гипотез, но не является основанием для отнесения оперативно-розыскной версии к числу криминалистических версий.
В учебнике по криминалистике для средних специальных учебных заведений МВД говорится о версиях оперативного работника как разновидности следственных версий, причем имеются в виду только те его версии, которые выдвигаются в процессе расследования и относятся к этому процессу.
На первых порах в качестве основания для построения версий указывали только доказательства. Однако уже в 1957 г. Г.Н. Мудьюгин отмечал, что данные, используемые для построения версий (речь шла лишь о следственных версиях), могут быть почерпнуты из любых источников, в числе которых могут фигурировать даже анонимные письма и слухи.
В 1959 г. С.А. Голунский писал об основаниях выдвижения следственных версий: “Поскольку версия – это только предположение, подлежащее проверке, сведения о конкретных фактах, которые кладутся в основу той или иной версии, могут быть почерпнуты не только из доказательств, предусмотренных ст. 58 УПК РСФСР, но и из любых других источников – из информационных материалов, полученных от милиции или других учреждений, из анонимных писем и заявлений и даже из слухов, распространяющихся в коллективе, заинтересованном в определенном ходе следствия.
Важно только, чтобы по своему характеру эти сведения были таковы, что следователь считает возможным основывать на них свои действия”. Иными словами, данные, которые могут быть положены в основание версии, должны быть правдоподобны и относиться к предмету исследования – предмету оперативной проверки, предмету доказывания.
По объему охватываемых, объясняемых оперативно-розыскной версией данных она может быть, как и следственная, общей и частной. Общая объясняет предполагаемое событие в целом, в основных квалифицирующих его чертах, признаках.
Частная версия относится к отдельным фактам, признакам, элементам события. Помимо этого деления, оперативно-розыскные версии отличаются и в зависимости от того, когда они выдвинуты: до возбуждения уголовного дела или после того, уже в процессе его расследования.
До возбуждения уголовного дела – в процессе оперативной проверки, при проведении иных ОРМ – фигурируют оба вида версий: общие и частные. Здесь процесс выдвижения и проверки версии носит непроцессуальный характер, возможность продуктивного использования данных, полученных оперативным путем, проблематична.
К моменту реализации оперативно-розыскных данных, полученных в результате проверки оперативно-розыскных версий, последние объективно остаются лишь предположениями, хотя субъективно оперативный работник может быть уверен в их истинности.
Основанием для выдвижения оперативно-розыскных версий на этой стадии раскрытия преступления служат любые имеющиеся в наличии правдоподобные данные. Но доказательства среди них по понятным причинам еще не фигурируют, поскольку уголовное дело еще не возбуждено.
Проверка версии также заключается в получении оперативной информации, подтверждающей или опровергающей версию. Результаты проверки фиксируются, отражаются опять-таки оперативным путем, при помощи оперативных средств. Иной характер носит процесс формирования оперативно-розыскных версий в процессе расследования.
Интересно
Известно, что оперативно-розыскные меры по делу, находящемуся в производстве дознавателя или следователя, могут быть проведены лишь по его поручению или с его согласия. Основанием для оперативно-розыскной версии в этом случае служит обычно следственная версия, она опирается на те же фактические данные, что и следственная версия, а следовательно, и на имеющиеся в распоряжении следователя доказательства и, в сущности, нацелена на проверку следственной версии.
Однако в процессе такой проверки ее направленность может измениться, если обнаруживаются данные, меняющие первоначальные представления о проверяемом явлении, факте, событии. Данные, полученные при проверке оперативно-розыскной версии, могут в этом случае послужить основанием для выдвижения следователем новой следственной версии взамен отвергнутой.
Таково соотношение оперативно-розыскных и следственных версий. На практике возникает ситуация, когда это соотношение меняется. Она возникает в процессе розыскной деятельности следователя, когда он и оперативный работник проверяют одну и ту же – розыскную – версию, каждый своими средствами и методами.
Эта версия является для них общей – и при надлежащем уровне взаимодействия между ними она и выдвигается ими сообща. Если дело находится в активном производстве, оперативный работник, наделенный следователем соответствующими полномочиями, при проверке версии может пользоваться не только оперативно-розыскными средствами и методами, но и процессуальными, проводя определенные следственные действия.
Если производство по делу приостановлено, оперативный работник вправе использовать весь арсенал оперативно-розыскных средств и методов, следователь же – лишь ограниченный круг гласных непроцессуальных мер: запросы, изучение архивных уголовных дел, учеты и др.
Отрицательный же результат служит основанием для прекращения оперативной проверки. В 1966 г. Р.С. Белкин ввел в научный оборот термин “типичная версия”, обозначив им общее, наиболее характерное объяснение преступного события того или иного рода. Типичные версии используются на самом начальном этапе работы по уголовному делу в условиях острого дефицита информации о случившемся и служат целям определения направления расследования в условиях информационной недостаточности.
Как отмечает Л.Я. Драпкин, “содержание теоретической базы типовых версий составляют обобщенные положения, фактические презумпции, теоретические выводы, статистические результаты, стандартные схемы и стереотипы мышления, тогда как в теоретическую базу специфических версий, наряду с различными обобщенными данными, входит и необобщенная, единичная информация, играющая более значительную роль”.
Сказанное можно полностью отнести и к оперативно-розыскным версиям: типичное объяснение события, признаки которого обнаружены оперативным работником, также базируется на определенных научных обобщениях, практике выявления преступлений определенного вида, рода, типичных для их совершения способах получения преступного результата и возникающих следов применения этих способов.
Как и следователь, оперативный работник по обнаруженным признакам события строит его информационную модель, пользуясь на первом этапе ее типичными вариантами и впоследствии, по мере накопления информации, делая эту модель все более и более специфической, индивидуальной. Ключевой в этой модели служит информация о способе совершения и сокрытия преступления, опять-таки на первых порах выраженная в типизированном виде.
В криминалистике и следственной практике типовая информационная модель преступлений определенного вида, рода носит название криминалистической характеристики.
В общем виде она включает в себя указания на типичные источники исходной информации, механизм преступления, включая типичные способы его совершения и сокрытия и некоторые иные обстоятельства (время, место, орудия преступления и др.), данные о личности типичного преступника и типичного потерпевшего, о типичных условиях, способствующих совершению и сокрытию этого вида преступлений.
Идея создания чего-то похожего на криминалистическую характеристику преступления в аспекте ОРД побудила некоторых авторов (Б.П. Смагоринский, 1990, и др.) выдвинуть идею формирования специфической оперативно-розыскной характеристики преступления – тоже обобщенной информационной модели преступного события, но уже имеющей специальную оперативно-розыскную направленность.
Анализ предложенной конструкции оперативно-розыскной характеристики преступления свидетельствует о несостоятельности самой идеи ее формирования.
Б.П. Смагоринский предложил включать в подобную характеристику обобщенные данные о социально-экономических факторах в сфере охраны тех или иных прав, переменные данные о состоянии, динамике, структуре и уровне преступных посягательств, данные статистики об эффективности мер по борьбе с данным видом преступлений.
Но все эти данные не являются имманентно присущими данному виду преступлений и не могут входить в характеристику конкретного вида преступлений, как типовой его модели, отражающей комплекс характерных для данного вида преступлений признаков, причем признаков устойчивых, относительно неизменяемых.
В противном случае характеристика преступления теряет свое значение некоей матрицы, наложение которой на конкретный случай может ориентировать оперативного работника или следователя в выборе направлений его действий, служить основой для выдвижения оперативно-розыскной и следственной версии.
Но после исключения из конструкции Б.П. Смагоринского указанных данных в ней остаются лишь сведения о способах совершения и сокрытия преступлений данного вида и о структуре преступных групп и личности преступника. Эти данные обычно содержатся в криминалистической характеристике преступления, включающей, кроме них, и другую важную информацию о преступлении.
Думается, что из этого можно сделать вывод, что в процессе ОРД можно с успехом использовать криминалистическую характеристику преступления, содержащую все необходимые ориентиры для осуществления ОРД по выявлению и раскрытию конкретного преступления. Заимствование теорией ОРД одной из научных категорий криминалистики следует рассматривать как проявление естественных связей между этими отраслями научного знания.
Отметим, что при этом и криминалистическую характеристику следовало бы пополнить данными, которые позволят более эффективно использовать ее в ОРД. Так, например, при характеристике типичных способов совершения и сокрытия преступлений следует специально выделить типичные действия подготовительного характера, знание которых необходимо оперативному работнику для успешного пресечения и предупреждения преступлений.
При характеристике личности типичного преступника следует привести данные о его типичных связях, о типичных для него приемах противодействия правоохранительным органам, типичных приемах уклонения от следствия и суда и т.п. Иными словами, криминалистическая характеристика будет детализироваться за счет обобщенных данных, имеющих значение преимущественно для оперативного работника.
Естественно, такая уточненная и детализированная криминалистическая характеристика преступления только тогда будет с успехом использоваться на практике, когда все ее элементы окажутся связанными друг с другом определенными корреляционными зависимостями. В этом случае она послужит эффективной базой для формирования оперативно-розыскных версий.
Использование теоретических концепций ОРД в криминалистике нередко сопровождается их критическим анализом, стремлением в какой-то мере сблизить их с соответствующими криминалистическими или процессуальными категориями или понятиями. Примерами подобного отношения служат высказываемые в криминалистической теории взгляды на содержание таких понятий, как оперативно-розыскная ситуация, документирование, оперативно-розыскные правоотношения и некоторые другие.
Оперативно-розыскная ситуация определяется как реально существующие в данный момент обстоятельства криминального события (В.А. Нетреба, 1992). По мнению криминалистов, такая трактовка этого понятия не дает достаточно полного представления о его содержании. В определении смешиваются два понятия: оперативно-розыскная и криминальная ситуация. Между тем, первая включает в себя элементы второй, но ее содержание этим не ограничивается.
Оперативно-розыскная ситуация – это комплекс условий, в которых в данный момент осуществляются оперативно-розыскные меры.
Составляющими этого комплекса служат элементы преступной деятельности, образующие докриминальную, криминальную или посткриминальную ситуации, т.е. ситуации, возникающие при замышлении, подготовке, совершении и сокрытии преступления.
Выявление признаков этих ситуаций составляет цель ОРД и определяет остальные слагаемые оперативно-розыскной ситуации: наличие у оперативного работника информации о криминальном событии и его участниках, их замыслах, принимаемых ими мерах противодействия раскрытию преступления, наличие еще неиспользованных источников оперативной информации, степень осведомленности участников криминального события о принятых и планируемых оперативно-розыскных мерах и др.
На содержание оперативно-розыскной ситуации влияют различные объективные и субъективные факторы. Можно полагать, что более полному раскрытию понятия оперативно-розыскной ситуации способствовало бы обращение к существующим трактовкам следственной ситуации как к сходному и близкому по смыслу понятию.
Интересно
Серьезные сомнения вызывает утверждение некоторых ученых – специалистов в области теории ОРД – о существовании неких специфических оперативно-розыскных правоотношений (например, В.П. Кувалдин, 1993; А.Г. Маркушин, 1994). Они полагают, что такие правоотношения “переплетаются” с правоотношениями других видов, но не могут быть сведены ни к одному из них.
Спор о природе правоотношений, возникающих в процессе ОРД, имеет уже свою историю. Тезис о самостоятельном существовании оперативно-розыскных правоотношений не поддерживается никем из ученых-правоведов, не разделяется он и криминалистами.
Противники этого тезиса считают, что специфических оперативно-розыскных правоотношений не существует, что речь должна идти о группе административно-правовых отношений, а в определенных ситуациях вообще не может быть речи о правоотношениях, субъекты которых – по определению – должны не только обладать взаимными правами и обязанностями, но, главное, должны знать о возникновении этих прав и обязанностей.
Но о чем может знать, например, субъект, в отношении которого сугубо конспиративно (а это принцип ОРД) проводится оперативная проверка? Да еще в том случае, когда преступление еще только замышляется? Едва ли в этом и подобных случаях можно считать, что вообще возникли какие-то правоотношения. Отношения же между оперативным аппаратом и негласными сотрудниками полностью укладываются в рамки административно-правовых отношений, а между оперативным работником и следователем – в содержание уголовно-процессуальных отношений.
Стремясь усилить аргументацию, подтверждающую существование оперативно-розыскных правоотношений, некоторые авторы идут еще дальше, объявляя о существовании “оперативно-розыскного права” (А.Г. Маркушин, 1994). Основанием для такой декларации послужило принятие закона об оперативно-розыскной деятельности в России.
Думается, что для подобных утверждений нет никаких оснований. Нет никакого “оперативно-розыскного права”, а есть правовые нормы, которые относятся к непроцессуальной деятельности органов дознания, их оперативных аппаратов, которые можно характеризовать как нормы административно-правовые, и есть также нормы, регулирующие ОРД в процессе расследования, относящиеся к числу уголовно-процессуальных норм.
Признание теории ОРД специальной юридической наукой вовсе не означает наличия неких оперативно-розыскных правовых норм, подобно тому, как нет “криминологических” норм права и т.п. Предметом теории ОРД не являются нормы права, а объектами ее могут быть любые правовые нормы, которые для этого незачем именовать оперативно-розыскными.
Разночтения вызывает в науке и термин “документирование преступных действий” – один из ключевых в теории ОРД. В этой теории документирование понимается как выявление, фиксация и сохранение оперативной информации и ее источников, что идет вразрез с распространенным толкованием термина “документирование”, когда под ним понимается лишь фиксация информации, причем преимущественно путем составления соответствующего документа.
В криминалистике и уголовном процессе то, что в ОРД называют документированием, понимается как процесс, состоящий из выявления (обнаружения), фиксации (закрепления), изъятия и сохранения информации. В связи с таким разночтением возникает вопрос о необходимости унификации терминологии в области борьбы с преступностью.
Вопрос об унификации такой терминологии поднимал еще в 1976 г. В.Е. Розенцвайг: “Следует рассмотреть вопрос об унификации терминологии, относящейся к определениям понятия оперативно-розыскной деятельности, применяемым в процессе ее осуществления средствам и методам существующих оперативно-розыскных мер как непроцессуальных действий органов дознания, направленных на выявление готовящихся или совершенных преступлений, на собирание сведений о личности и месте нахождения преступника, его связях, на установление и обеспечение сохранности объектов – возможных носителей доказательственной информации”.
И хотя предложение В.Е. Розенцвайга относилось лишь к понятию ОРД, думается, что есть основания распространить его вообще на всю терминологию, которой пользуется оперативно-розыскная и следственная практика.
Взаимодействие между науками обусловливает и взаимную постановку задач, требующих решения силами специалистов этих областей знания. Криминалисты заинтересованы в разработке в теории ОРД исчерпывающих представлений о содержании и видах оперативной информации, о связи оперативной информации с информационными процессами при доказывании, о путях и пределах использования в ОРД криминалистических приемов и средств, о направлениях и приемах использования оперативным работником доказательственной информации, предоставленной ему следователем.
В свою очередь, теория ОРД заинтересована в решении криминалистами таких проблем, как определение значения оперативной информации в системе компонентов следственной ситуации, критерии оценки достоверности оперативной информации, возможности оперативно-розыскных мер, осуществляемых в процессе доказывания, и др.
Статьи по теме
- Фактор внезапности, его учет и использование в доказывании
- Тактические приемы работы с доказательствами
- Концептуальные основы тактики следственных действий
- Тактика следственного судебного действия
- Соотношение и связь процессуального и тактического аспектов доказывания
- Реализация в доказывании положений теории криминалистической идентификации
- Реализация в доказывании положений криминалистического учения о розыске
- Реализация в доказывании положений учения о криминалистической регистрации
- Реализация в доказывании положений теории криминалистического прогнозирования
Полезные статьи


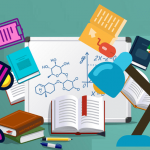




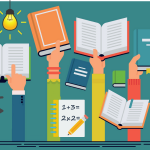

Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

